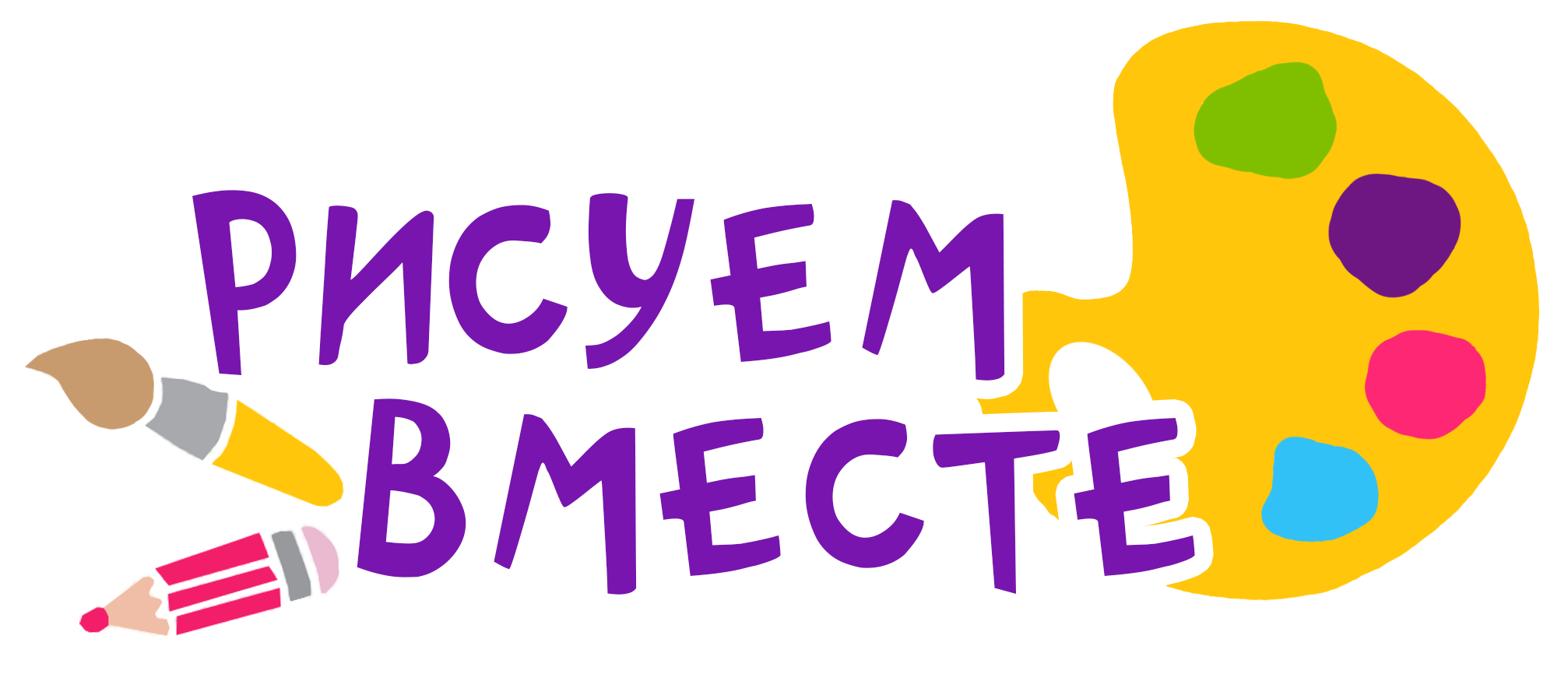Элегия Александра Сергеевича Пушкина «Счастлив, кто в страсти сам себе…» относится к лицейско-ранней лирике поэта и датирована 1816 годом (по лицейской тетради). Текст построен на антитезе двух состояний: «счастливого» героя тайной любви и лирического «я», лишённого утешений, — что задаёт печально-раздумчивый тон жанра.
Элегия (Счастлив, кто в страсти сам себе…)
автор Александр Сергеевич Пушкин
Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет;
Кого луны туманный луч
Ведет в полночи сладострастной;
Кому тихонько верный ключ
Отворит дверь его прекрасной!
Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет;
Кого луны туманный луч
Ведет в полночи сладострастной;
Кому тихонько верный ключ
Отворит дверь его прекрасной!
Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!
<1816>
Об авторе
А. С. Пушкин (1799–1837) уже в лицейские годы вырабатывает элегическую интонацию: исповедь, тема времени и «меры» чувства. Эта элегия показывает раннее стремление к нравственной самооценке: не столько восторг страсти, сколько трезвое понимание её цены и одиночества.
О чём произведение
Первая строфа — гипотетический портрет «счастливого»: это тот, кто без страха признаётся в любви, чьё чувство поддержано «робкой надеждой», кого ведёт «луны туманный луч», и кого к любимой пускает «верный ключ». Вторая строфа резко меняет оптику: лирический герой заявляет о себе — «мне… нет отра ды», «увял надежды ранний цвет»; впереди — «угрозы» старости, а прошлое отмечено слезами любви, которые он не способен забыть. Так личный опыт переживается как утрата тайного счастья и как память о боли.
Действие и композиция
- Место и время лирического сюжета — без конкретизации; сумеречно-ночной пейзаж (луна, полно́чь) как эмоциональная сцена.
- Структура — 2 строфы: 1) описательная гипотеза «счастливого» любовника; 2) автопризнание «я»: отсутствие отра ды, увядание надежды, неизбывная память о слезах.
- Повествование — монолог-исповедь с переходом от «он/кто» к «я».
Главные «персонажи» (лирические силы)
- «Счастливый» (условный адресат перечисления) — тот, у кого страсть подкреплена надеждой и взаимностью.
- Лирический герой — переживает утрату и одиночество; его опыт — контрапункт «счастливому» портрету.
- Образы-посредники — луна, ключ, полно́чь: символы тайной встречи и интимного мира.
Подробное краткое содержание (по строфам)
«Счастлив, кто…» — серия параллельных определений: смелость признания, «робкая надежда», ночная дорога под луной, «верный ключ» к двери возлюбленной.
«Но мне…» — контрастная исповедь: нет отра ды тайной любви; «увял ранний цвет надежды»; молодость улетит под «угрозами» старости; главный след — незабываемые «слёзы» собственной любви.
«Но мне…» — контрастная исповедь: нет отра ды тайной любви; «увял ранний цвет надежды»; молодость улетит под «угрозами» старости; главный след — незабываемые «слёзы» собственной любви.
Темы, идеи, мотивы
- Страсть и самообладание: смелость признания ↔ страх и одиночество.
- Надежда/безнадёжность: «робкая надежда» как условие счастья; её увядание — источник боли.
- Время: раннее «увядание», предчувствие старости при живой памяти о любви.
- Тайна любви: ночь, луна, «верный ключ» — образ интимной закрытости.
Поэтика и приёмы
- Антитеза строф (счастливый «кто…» ↔ «но мне…»).
- Анафорические повторы («Кого… Кого… Кому…») — эффекты перечисления и нарастания.
- Символика ночи (луна, полно́чь) и метафоры увядания («увял… ранний цвет»).
- Размер, рифмовка, строфика — элегическое речение с регулярным ямбом и катренами; точная метрическая схема в рамках предоставленного материала не уточняется.
Историко-культурный контекст и текстология
Датировка: 1816 (по лицейской тетради).
Автограф: не обнаружен.
Копии: 1) «Дух лицейских трубадуров» (Д); 2) лицейская тетрадь № 2364 (ЛТ/ЛБ № 2364, л. 10 об.) — три слоя авторских поправок (поправки 1817 г. обычно вводятся в основной текст); 3) тетрадь А. В. Никитенко (Н); 4) тетрадь кн. Н. А. Долгорукова.
Публикация: впервые напечатано В. А. Жуковским в посмертном издании сочинений Пушкина, т. IX, 1841, с. 324.
Другие редакции и варианты: в профильных изданиях приводятся первоначальное чтение ЛТ, варианты Н/Д и перечень поправок по ЛТ.
Автограф: не обнаружен.
Копии: 1) «Дух лицейских трубадуров» (Д); 2) лицейская тетрадь № 2364 (ЛТ/ЛБ № 2364, л. 10 об.) — три слоя авторских поправок (поправки 1817 г. обычно вводятся в основной текст); 3) тетрадь А. В. Никитенко (Н); 4) тетрадь кн. Н. А. Долгорукова.
Публикация: впервые напечатано В. А. Жуковским в посмертном издании сочинений Пушкина, т. IX, 1841, с. 324.
Другие редакции и варианты: в профильных изданиях приводятся первоначальное чтение ЛТ, варианты Н/Д и перечень поправок по ЛТ.
План для пересказа
- Жанр: элегия; датировка 1816, лицейский период.
- Строфа 1 — портрет «счастливого»: признание, надежда, ночь, «верный ключ».
- Переход «Но мне…» — контрастная исповедь.
- Нет отра ды тайной любви; увядание надежды.
- Время/старость как угроза, но память о слёзах любви не стирается.
- Образы: луна, полно́чь, ключ, «ранний цвет».
- Вывод: ранняя формула одиночества и зреления.
Список источников
- Полный текст стихотворения, переданный пользователем (датировка: 1816).
- Рукописная и публикационная справка пользователя: автограф не найден; копии (Д, ЛТ, Н, тетрадь кн. Н. А. Долгорукова); первая печать — В. А. Жуковский, посмертное издание сочинений Пушкина, т. IX, 1841, с. 324; учёт поправок 1817 г. в ЛТ.
Часто задаваемые вопросы
Когда написана элегия и при каких условиях? — В 1816 году (лицейский период), по данным лицейской тетради; текст известен по копиям.
Есть ли авторский автограф? — Нет; автограф неизвестен, изучают копии (ЛТ, Д, Н и др.).
Когда впервые опубликована? — Впервые напечатана В. А. Жуковским в посмертном издании (1841, т. IX, с. 324).
Как устроено стихотворение? — Две строфы-антитезы: портрет «счастливого» любовника и исповедь «я», лишённого отра ды тайной любви.
Какие ключевые мотивы? — Признание в страсти, «робкая надежда», ночная тайна (луна, ключ), увядание надежды, память о слезах.
Какова метрика? — Регулярный ямб, катрены.
Есть ли авторский автограф? — Нет; автограф неизвестен, изучают копии (ЛТ, Д, Н и др.).
Когда впервые опубликована? — Впервые напечатана В. А. Жуковским в посмертном издании (1841, т. IX, с. 324).
Как устроено стихотворение? — Две строфы-антитезы: портрет «счастливого» любовника и исповедь «я», лишённого отра ды тайной любви.
Какие ключевые мотивы? — Признание в страсти, «робкая надежда», ночная тайна (луна, ключ), увядание надежды, память о слезах.
Какова метрика? — Регулярный ямб, катрены.
Заключение
Эта элегия — ранний опыт честной самооценки: Пушкин противопоставляет идеально-романтический счастливый образ конкретной боли «я». Память о любви становится неизбывной мерой жизни — даже когда надежда увяла, а веселье юности сменилось трезвостью и одиночеством.
Во-первых, важна смена оптики между строфами: от гипотетического «счастлив, кто…» к личному «но мне…». Эта резкая антитеза не просто художественный приём — она фиксирует момент самоопознания: герой честно отделяет идеал тайной взаимности от своей реальности утраты.
Во-вторых, ночная символика (луна, полно́чь, «верный ключ») формирует целый язык тайной близости. В первой строфе ночь покровительствует любви, во второй — тот же сумрак переходит в тональность одиночества. Так один и тот же образный ряд показывает две стороны опыта: возможность и её отсутствие.
В-третьих, формула «увял надежды ранний цвет» задаёт ранний для Пушкина мотив «преждевременного увядания». Он станет важным маркером перехода к зрелости в более поздних текстах: память о боли не катастрофа, а материал внутренней дисциплины и будущей свободы.
Наконец, рукописная история стихотворения (варианты, поздняя публикация, отсутствие автографа) учит аккуратности в чтении. Перед нами не «мелкая миниатюра», а лабораторная запись становления элегической интонации: Пушкин уже в 1816-м ищет баланс между силой чувства и мерой слова — и находит его в простоте, точности и честности тона.
Во-вторых, ночная символика (луна, полно́чь, «верный ключ») формирует целый язык тайной близости. В первой строфе ночь покровительствует любви, во второй — тот же сумрак переходит в тональность одиночества. Так один и тот же образный ряд показывает две стороны опыта: возможность и её отсутствие.
В-третьих, формула «увял надежды ранний цвет» задаёт ранний для Пушкина мотив «преждевременного увядания». Он станет важным маркером перехода к зрелости в более поздних текстах: память о боли не катастрофа, а материал внутренней дисциплины и будущей свободы.
Наконец, рукописная история стихотворения (варианты, поздняя публикация, отсутствие автографа) учит аккуратности в чтении. Перед нами не «мелкая миниатюра», а лабораторная запись становления элегической интонации: Пушкин уже в 1816-м ищет баланс между силой чувства и мерой слова — и находит его в простоте, точности и честности тона.