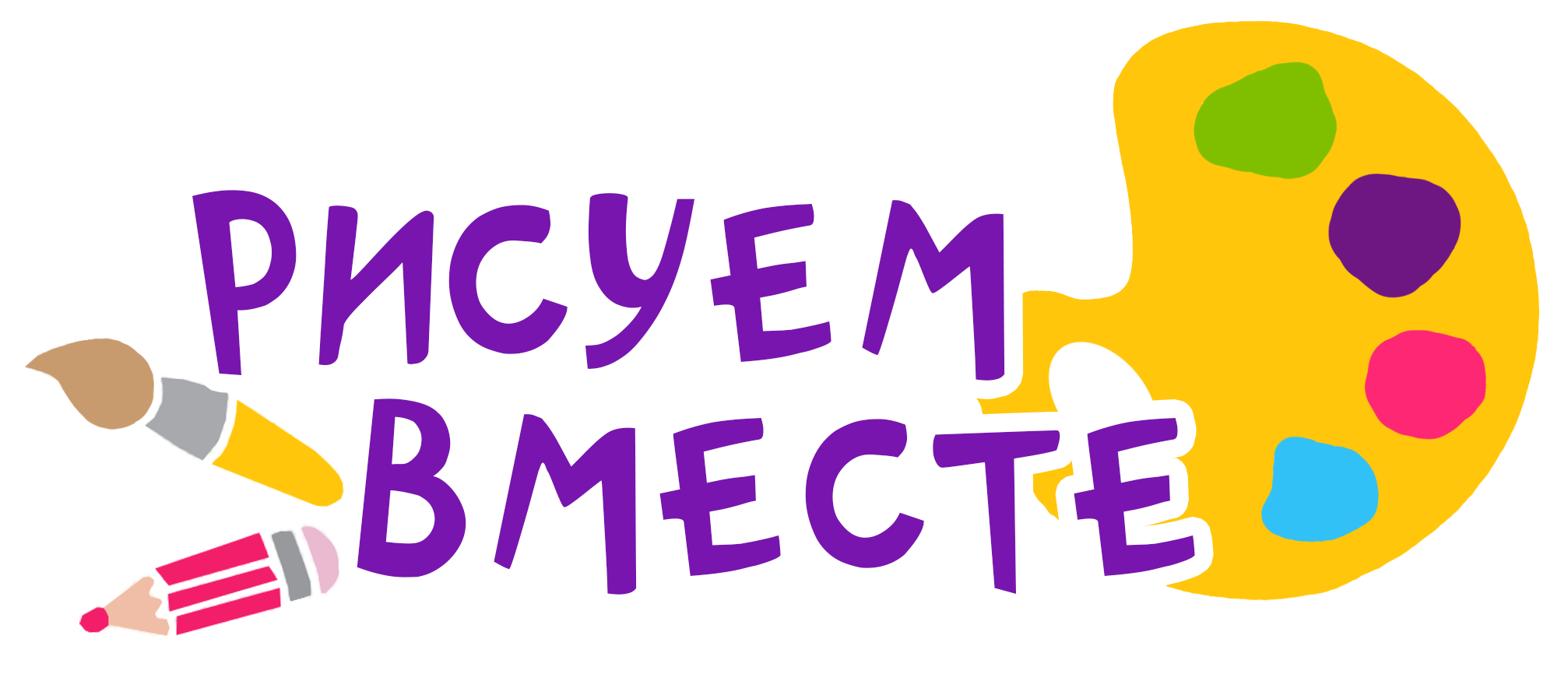Элегия Александра Сергеевича Пушкина «Опять я ваш, о юные друзья!..» относится к ранней лирике поэта (датирована 1817 годом). В стихотворении — встреча с прежним кругом друзей и внезапное осознание внутренней перемены: юношеская «резвость» ушла, на смену ей пришли печаль и трезвое взросление.
ЭЛЕГИЯ
Опять я ваш, о юные друзья!
Туманные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки,
Ваш резвый круг увидел снова я.
Всё те же вы, но сердце уж не то же:
Уже не вы ему всего дороже,
Уж я не тот… невидимой стезей —
Ушла пора веселости беспечной,
Ушла навек, и жизни скоротечной
Луч утренний бледнеет надо мной. —
Веселие рассталося с душой.
Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смех, и резвость, и покой —
Я всё забыл: печали молчаливой
Покров лежит над юною главой…
Напрасно вы беседою шутливой
И нежностью души красноречивой
Мой тяжкой сон хотите перервать,
Всё кончилось, — и резвости счастливой
В душе моей изгладилась печать.
Чтоб удалить угрюмые страданья,
Напрасно вы несете лиру мне;
Минувших дней погаснули мечтанья,
И умер глас в бесчувственной струне.
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне страшен мир, мне скучен дневный свет;
Пойду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак — я радость ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.
Опали вы, листы вчерашней розы!
Не доцвели до месячных лучей.
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы — невольно льются слезы,
И вяну я на темном утре дней.
О Дружество! предай меня забвенью;
В безмолвии покорствую судьбам,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустыням и слезам.
Туманные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки,
Ваш резвый круг увидел снова я.
Всё те же вы, но сердце уж не то же:
Уже не вы ему всего дороже,
Уж я не тот… невидимой стезей —
Ушла пора веселости беспечной,
Ушла навек, и жизни скоротечной
Луч утренний бледнеет надо мной. —
Веселие рассталося с душой.
Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смех, и резвость, и покой —
Я всё забыл: печали молчаливой
Покров лежит над юною главой…
Напрасно вы беседою шутливой
И нежностью души красноречивой
Мой тяжкой сон хотите перервать,
Всё кончилось, — и резвости счастливой
В душе моей изгладилась печать.
Чтоб удалить угрюмые страданья,
Напрасно вы несете лиру мне;
Минувших дней погаснули мечтанья,
И умер глас в бесчувственной струне.
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне страшен мир, мне скучен дневный свет;
Пойду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак — я радость ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.
Опали вы, листы вчерашней розы!
Не доцвели до месячных лучей.
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы — невольно льются слезы,
И вяну я на темном утре дней.
О Дружество! предай меня забвенью;
В безмолвии покорствую судьбам,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустыням и слезам.
<1817>
Об авторе
А. С. Пушкин (1799–1837) в ранние годы активно обращается к элегическому тону под влиянием эпохи и литературной традиции. 1816–1817 годы — время закрепления его «я»-интонации: личное признание, мотив утраты юности, обращение к друзьям как к важному адресату лирики.
О чём произведение в одном абзаце
Лирический герой возвращается к «юным друзьям» и видит, что «всё те же вы», но его сердце уже «не то же». Он констатирует уход беззаботной поры, бесповоротность перемены и собственную неспособность радоваться по-старому. Попытки друзей «перервать тяжкий сон» тщетны: «всё кончилось», и мир кажется «страшен» и «скучен». Герой вбирает опыт утраты, выбирая уединение и молчаливую печаль как новый способ существования.
Действие и композиция
- Место и время лирического сюжета — возвращение в дружеский круг; рубеж между юностью и зрелостью.
- Структура — 1) радость встречи → 2) признание перемены («уж я не тот…») → 3) разрыв с прежней «веселостью» → 4) попытка друзей вернуть прежнее → 5) отказ/принятие печали → 6) финальная просьба к Дружеству о забвении.
- Повествование — монолог-исповедь, обращённый к друзьям и к персонифицированному Дружеству.
Главные «персонажи» (лирические силы)
- Лирический герой — переживает утрату юношеской «резвости», выбирает уединение и молчание.
- Друзья — символ прошлого круга, неизменного внешне, но уже далёкого внутренне.
- Дружество — адресат финальной просьбы о «забвении», воплощение некогда объединявшей силы.
Подробное краткое содержание (по ходу текста)
- Радость узнавания: «Опять я ваш, о юные друзья!»; разлука кончилась, круг друзей вновь рядом.
- Немедленное «но»: «сердце уж не то же» — герой чувствует внутреннюю разладку с прежним миром.
- Констатация утраты: «Ушла пора веселости беспечной», «луч утренний бледнеет надо мной».
- Друзья пытаются «перервать тяжкий сон» шуткой и нежностью, но печать «резвости счастливой» стерта.
- Поэтика отрицаний: «напрасно» лира, «погаснули мечтанья», «в бесчувственной струне» умер голос.
- Максимальный кризис: «мне страшен мир, мне скучен дневный свет»; желание уйти в «леса… где мёртвый мрак».
- Образ «вчерашней розы» и «утра дней» — сжатый символ увядания и преждевременной зрелости.
- Финал — молитвенно-прощальная строфа к Дружеству: «предай меня забвенью… оставь меня пустыням и слезам».
Темы, идеи, мотивы
- Утрата юности и «разлад» с прежним кругом.
- Память и забвение: просьба о «забвении» как форма смирения.
- Одиночество и уединение как выбор после кризиса.
- Время как разрушитель «резвости», символика утра/вечера.
- Поиск нового «я» после ухода весёлой беспечности.
Поэтика и приёмы
- Контрасты («веселье» ↔ «похмелье»; свет/мрак; вчера/сегодня).
- Образы-символы: утро, роза, лес/пустыня, лира, «бесчувственная струна».
- Многократное «напрасно» — риторика невозможности возврата.
- Размер, рифмовка, строфика: элегическое речение с регулярным ямбом и катренами.
Историко-культурный контекст
- Ранняя элегическая традиция начала XIX века; обращение к друзьям — типичный мотив лицейско-ранних текстов.
- Поворот от «весёлой дружбы» к индивидуальной рефлексии: ранняя формула взросления в поэзии Пушкина.
План для пересказа
- Возвращение к друзьям, радость узнавания.
- Осознание перемены: «уж я не тот».
- Уход беззаботной поры, «луч утренний бледнеет».
- Напрасные попытки друзей вернуть прежнюю радость.
- «Напрасно» — лира и мечтанья больше не действуют.
- Кризис: страх перед миром, жажда уединения.
- Финал: просьба к Дружеству о забвении и покорность судьбе.
Часто задаваемые вопросы
Когда написана элегия «Опять я ваш, о юные друзья!..»? — В 1817 году (ранняя лирика Пушкина).
О чём стихотворение в одном тезисе? — О признании утраты юности и невозможности вернуться к прежней «весёлой» жизни, несмотря на попытки друзей.
Почему текст считается элегией? — Преобладает печально-раздумчивый тон, мотив утраты и исповедальная интонация, обращение к друзьям и просьба о «забвении».
Какие ключевые мотивы важно отметить на уроке? — Уход «весёлости», бессилие искусства (лиры) вернуть прежнее, выбор уединения, символика увядающей розы и бледнеющего утра.
Какой размер и строфика? — Регулярный ямб в катренах.
Как не перепутать с «Безумных лет угасшее веселье…»? — В данном тексте отсутствует формула «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»; это другая, позднейшая элегия (1830).
О чём стихотворение в одном тезисе? — О признании утраты юности и невозможности вернуться к прежней «весёлой» жизни, несмотря на попытки друзей.
Почему текст считается элегией? — Преобладает печально-раздумчивый тон, мотив утраты и исповедальная интонация, обращение к друзьям и просьба о «забвении».
Какие ключевые мотивы важно отметить на уроке? — Уход «весёлости», бессилие искусства (лиры) вернуть прежнее, выбор уединения, символика увядающей розы и бледнеющего утра.
Какой размер и строфика? — Регулярный ямб в катренах.
Как не перепутать с «Безумных лет угасшее веселье…»? — В данном тексте отсутствует формула «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»; это другая, позднейшая элегия (1830).
См. также: Элегия («Безумных лет угасшее веселье…», 1830); Южный период и морские элегии («Погасло дневное светило…», «К морю»).
Заключение
Эта элегия фиксирует хрупкий момент взросления: радость встречи уже не отменяет внутреннего разрыва. Лирический герой честно признаёт, что «печать» прежней резвости стерта, и выбирает молчаливое принятие перемены — первый шаг к зрелой ответственности и к новому, более строгому пониманию себя.
Во-первых, эта элегия фиксирует не «уныние как позу», а момент трезвого самоузнавания. Герой честно называет свои утраты и отказывается от театральности: поэтому звучат слова «напрасно» — не как жалоба, а как признание границы, за которую нельзя вернуться усилием воли или музыкой лиры.
Во-вторых, важен адресат — друзья и персонифицированное «Дружество». Обращение к ним поднимает частное переживание до общечеловеческого: взросление почти всегда означает расхождение с прежним кругом и необходимость пройти часть пути одному. Просьба о «забвении» — не холодность, а забота: не держать друга в долге утешения.
В-третьих, образный ряд («вчерашняя роза», «бледнеющий утренний луч», «мертвый мрак лесов») переводит психологию в язык вещей и природных состояний. Это делает текст ясным для «чтения глазами»: увядание цветов = исчерпанность прежней радости; утро, которое уже «не светит», — знак перехода в иной жизненный режим.
Наконец, если сопоставить стихотворение с поздней «Элегией» 1830 года, видно развитие: от резкого отказа и уединения — к программе «жить, мыслить и страдать». Ранняя элегия — это вход в коридор зрелости, где первым шагом становится честность перед собой; поздняя — выход, когда печаль уже научилась служить жизни, а не гасить её.
Во-вторых, важен адресат — друзья и персонифицированное «Дружество». Обращение к ним поднимает частное переживание до общечеловеческого: взросление почти всегда означает расхождение с прежним кругом и необходимость пройти часть пути одному. Просьба о «забвении» — не холодность, а забота: не держать друга в долге утешения.
В-третьих, образный ряд («вчерашняя роза», «бледнеющий утренний луч», «мертвый мрак лесов») переводит психологию в язык вещей и природных состояний. Это делает текст ясным для «чтения глазами»: увядание цветов = исчерпанность прежней радости; утро, которое уже «не светит», — знак перехода в иной жизненный режим.
Наконец, если сопоставить стихотворение с поздней «Элегией» 1830 года, видно развитие: от резкого отказа и уединения — к программе «жить, мыслить и страдать». Ранняя элегия — это вход в коридор зрелости, где первым шагом становится честность перед собой; поздняя — выход, когда печаль уже научилась служить жизни, а не гасить её.