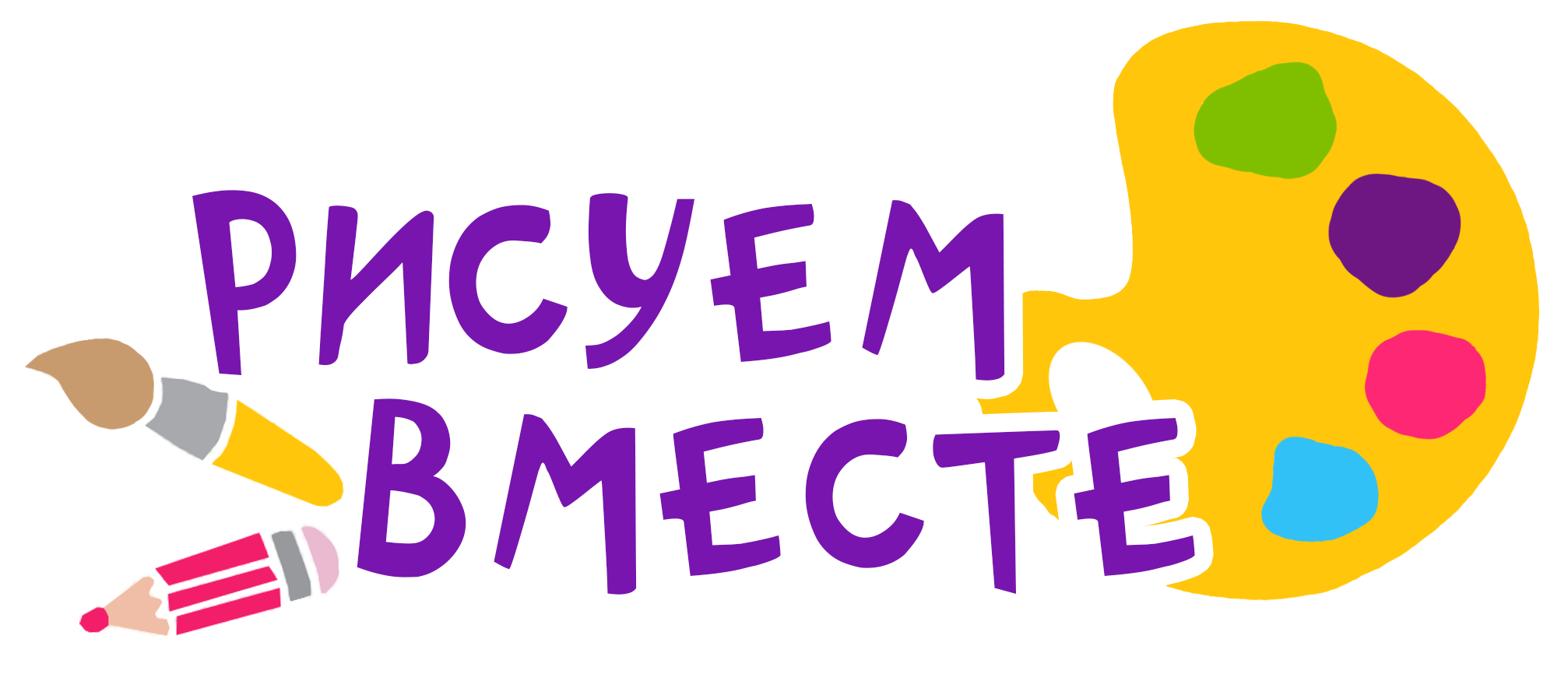Ранняя элегия Александра Сергеевича Пушкина «Я видел смерть; она в молчаньи села…» датирована 1816 годом (лицейский период). В центре — предельный опыт присутствия смерти и попытка примирить его с памятью о любви и дружбе; текст соединяет мрачный эсхатологический взгляд и нежную человеческую привязанность.
Элегия: Я видел смерть; она в молчаньи села...
Я видел смерть; она в молчаньи села
У мирного порогу моего;
Я видел гроб; открылась дверь его;
Душа, померкнув, охладела...
Покину скоро я друзей,
И жизни горестной моей
Никто следов уж не приметит;
Последний взор моих очей
Луча бессмертия не встретит,
И погасающий светильник юных дней
Ничтожества спокойный мрак осветит.
...............................
Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала —
Где вера тихая меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Прости, светило дня, прости, небес завеса,
Немая ночи мгла, денницы сладкий час,
Знакомые холмы, ручья пустынный глас,
Безмолвие таинственного леса,
И всё.... прости в последний раз.
А ты, которая была мне в мире богом,
Предметом тайных слез и горестей залогом,
Прости! минуло всё..... Уж гаснет пламень мой,
Схожу я в хладную могилу,
И смерти сумрак роковой
С мученьями любви покроет жизнь унылу.
А вы, друзья, когда лишенный сил,
Едва дыша, в болезненном бореньи,
Скажу я вам: «О други! я любил!...»
И тихой дух умрет в изнеможеньи,
Друзья мои, — тогда подите к ней;
Скажите: взят он вечной тьмою...
И, может быть, об участи моей
Она вздохнет над урной гробовою.
У мирного порогу моего;
Я видел гроб; открылась дверь его;
Душа, померкнув, охладела...
Покину скоро я друзей,
И жизни горестной моей
Никто следов уж не приметит;
Последний взор моих очей
Луча бессмертия не встретит,
И погасающий светильник юных дней
Ничтожества спокойный мрак осветит.
...............................
Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала —
Где вера тихая меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Прости, светило дня, прости, небес завеса,
Немая ночи мгла, денницы сладкий час,
Знакомые холмы, ручья пустынный глас,
Безмолвие таинственного леса,
И всё.... прости в последний раз.
А ты, которая была мне в мире богом,
Предметом тайных слез и горестей залогом,
Прости! минуло всё..... Уж гаснет пламень мой,
Схожу я в хладную могилу,
И смерти сумрак роковой
С мученьями любви покроет жизнь унылу.
А вы, друзья, когда лишенный сил,
Едва дыша, в болезненном бореньи,
Скажу я вам: «О други! я любил!...»
И тихой дух умрет в изнеможеньи,
Друзья мои, — тогда подите к ней;
Скажите: взят он вечной тьмою...
И, может быть, об участи моей
Она вздохнет над урной гробовою.
<1816>
Об авторе
А. С. Пушкин (1799–1837) уже в юности вырабатывает элегическую интонацию: исповедь, мотив времени, предчувствие утраты. В этой элегии формируется один из «дальних» сюжетов поэта — столкновение частного чувства с финитностью жизни и молчанием веры.
О чём произведение
Лирический герой прямо «видит» смерть у собственного порога, ощущает охлаждение души и близость ухода. Он прощается с миром: с дневным светом, небом, ночной тьмой, родными холмами и «таинственным лесом». В адресном движении прощаний выделяются два узла — любимая («ты, которая была мне в мире богом») и друзья: герой просит передать ей весть об уходе и допускает надежду на её сочувствие «над урной гробовою». Между страхом небытия и человеческой связью возникает тонкий мост — память о любви.
Действие и композиция
- Ситуация — предсмертное сознание; смерть «садится» у порога.
- Структура — 1) видение смерти и «охлаждение» (экзистенциальный шок); 2) развернутое «прости» миру (космосу и природе); 3) интимный узел адресаций: любимая и друзья; 4) финальная просьба друзьям сообщить ей об исходе и возможный «вздох» над прахом.
- Повествование — монолог-исповедь с апелляцией к природе, любимой и дружескому кругу.
Главные «персонажи» (лирические силы)
- Лирический герой — стоящий лицом к смерти, сохраняющий способность любить и прощаться.
- Смерть — молчаливая, «сидящая у порога» сила.
- Любимая — «бог» мира героя; адресат последней надежды на сострадание.
- Друзья — посредники между «я» и любимой; хранители памяти.
Подробное краткое содержание (по ходу текста)
- Героем переживается зрительное/экзистенциальное видение смерти; от него — физиология «охлаждения» души и мысль о скором уходе, забытости и отсутствии «луча бессмертия».
- Мотив нищеты следа: «никто следов уж не приметит», «погасающий светильник юных дней» — метафора угасания жизни.
- Инвентарь прощаний: мир, светило дня, небеса, ночь, рассвет, холмы, ручей, лес.
- Адресация любимой: просьба о прощении; «минуло всё», «гаснет пламень», смерть «покроет» жизнь «с мученьями любви».
- Друзья: момент умирания («О други! я любил!»); просьба передать весть ей; надежда на её «вздох» у урны.
Темы, идеи, мотивы
- Смерть и финальность: отсутствие «луча бессмертия», страх небытия.
- Память и след: исчезновение следов ↔ надежда на личную память любимой.
- Любовь перед лицом смерти: «мученья любви» как последний смысл.
- Природа и космос: ритуал прощания с миром как признание его красоты.
- Дружба: человеческое посредничество между живыми и уходящим.
Поэтика и приёмы
- Параллелизмы и анафоры («Прости… Прости…») — движение прощаний.
- Сильные метафоры: «погасающий светильник юных дней», «смерти сумрак роковой».
- Контрасты: «свет — тьма», «жизнь — ничтожества мрак», «любовь — смерть».
- Размер, рифмовка, строфика: элегическое речение на регулярном ямбе, катрены; точная метрическая схема не уточняется (нет данных в рамках переданных источников).
Историко-культурный контекст
Датировка: 1816 (лицейский период).
Композиционная особенность: внутри общего движения к «молчанию» включён человеческий диалог — с любимой и друзьями, что смягчает абсолютность небытия.
Композиционная особенность: внутри общего движения к «молчанию» включён человеческий диалог — с любимой и друзьями, что смягчает абсолютность небытия.
План для пересказа
- Видение смерти у порога; «охлаждение» души.
- Мысль о скором уходе и забытости, отсутствие «луча бессмертия».
- Образ «светильника юных дней».
- Большое «прости» миру: космос, природа, знакомые места.
- Адрес к любимой: «ты, которая была мне в мире богом»; просьба/прощение.
- Обращение к друзьям; просьба передать весть ей.
- Финал: возможный «вздох» любимой у урны — остаток надежды.
Список источников
- Полный текст стихотворения, переданный пользователем (датировка: 1816).
См. также: Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе…», 1816); Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!..», 1817) — ранние формулы элегической интонации.
Часто задаваемые вопросы
Когда написана элегия? — В 1816 году (лицейский период Пушкина).
О чём стихотворение «в одном тезисе»? — О прощании с миром перед лицом смерти и о том, что сохраняет «я»: память любви и дружбы.
Почему важна любимая в финале? — Её возможный «вздох» — последняя надежда на человеческое подтверждение, что жизнь имела смысл.
Что за «луч бессмертия»? — Метафорическое обозначение надежды на посмертное продолжение; герой прямо говорит о его отсутствии.
Как устроена композиция? — От видения смерти → через инвентарь прощаний → к адресациям любимой и друзьям.
Какова метрика? — Регулярный ямб, катрены.
О чём стихотворение «в одном тезисе»? — О прощании с миром перед лицом смерти и о том, что сохраняет «я»: память любви и дружбы.
Почему важна любимая в финале? — Её возможный «вздох» — последняя надежда на человеческое подтверждение, что жизнь имела смысл.
Что за «луч бессмертия»? — Метафорическое обозначение надежды на посмертное продолжение; герой прямо говорит о его отсутствии.
Как устроена композиция? — От видения смерти → через инвентарь прощаний → к адресациям любимой и друзьям.
Какова метрика? — Регулярный ямб, катрены.
Заключение
Эта элегия — ранний опыт предельной искренности: перед лицом смерти герой не ищет высоких иллюзий, а называет главное — любовь, дружбу и красоту мира. Ритуал прощаний делает текст не только трагическим, но и благодарным: даже без «луча бессмертия» человек остаётся в человеческих связях, где память — последняя форма надежды.
Во-первых, ключ к силе текста — в честной интонации отказа от утешительных догм. Герой прямо говорит об отсутствии «луча бессмертия» и тем самым снимает риторику громких обещаний: остаётся человеческая мера — память, любовь, дружба. На фоне предельного «нет» любая живая связь начинает звучать громче.
Во-вторых, ритуал прощаний работает как «карта мира» лирического «я»: от космоса (светило, небеса) к локальному пейзажу (холмы, ручей, лес) и дальше — к самым близким адресатам. Это нисходящее движение делает смерть не абстрактной метафизикой, а конкретным опытом расставания с любимыми местами и людьми.
В-третьих, формула «О други! я любил!» — этическое резюме всей юности героя. В момент финального испытания он определяет себя не по титулу и не по вере, а по способности любить. Просьба друзьям «подойти к ней» после его ухода трансформирует личное чувство в коллективный акт памяти — любовь продолжает действовать через слово и жест.
Наконец, ранняя элегия подготавливает важную линию зрелого Пушкина: трезвая, безпафосная благодарность к миру при ясном взгляде на конечность. Позднее эта оптика приведёт к формуле принятия (болдинская «Элегия»), но уже здесь слышно: смысл не в отрицании жизни, а в умении назвать главные связи — и сохранить их до последней черты.
Во-вторых, ритуал прощаний работает как «карта мира» лирического «я»: от космоса (светило, небеса) к локальному пейзажу (холмы, ручей, лес) и дальше — к самым близким адресатам. Это нисходящее движение делает смерть не абстрактной метафизикой, а конкретным опытом расставания с любимыми местами и людьми.
В-третьих, формула «О други! я любил!» — этическое резюме всей юности героя. В момент финального испытания он определяет себя не по титулу и не по вере, а по способности любить. Просьба друзьям «подойти к ней» после его ухода трансформирует личное чувство в коллективный акт памяти — любовь продолжает действовать через слово и жест.
Наконец, ранняя элегия подготавливает важную линию зрелого Пушкина: трезвая, безпафосная благодарность к миру при ясном взгляде на конечность. Позднее эта оптика приведёт к формуле принятия (болдинская «Элегия»), но уже здесь слышно: смысл не в отрицании жизни, а в умении назвать главные связи — и сохранить их до последней черты.